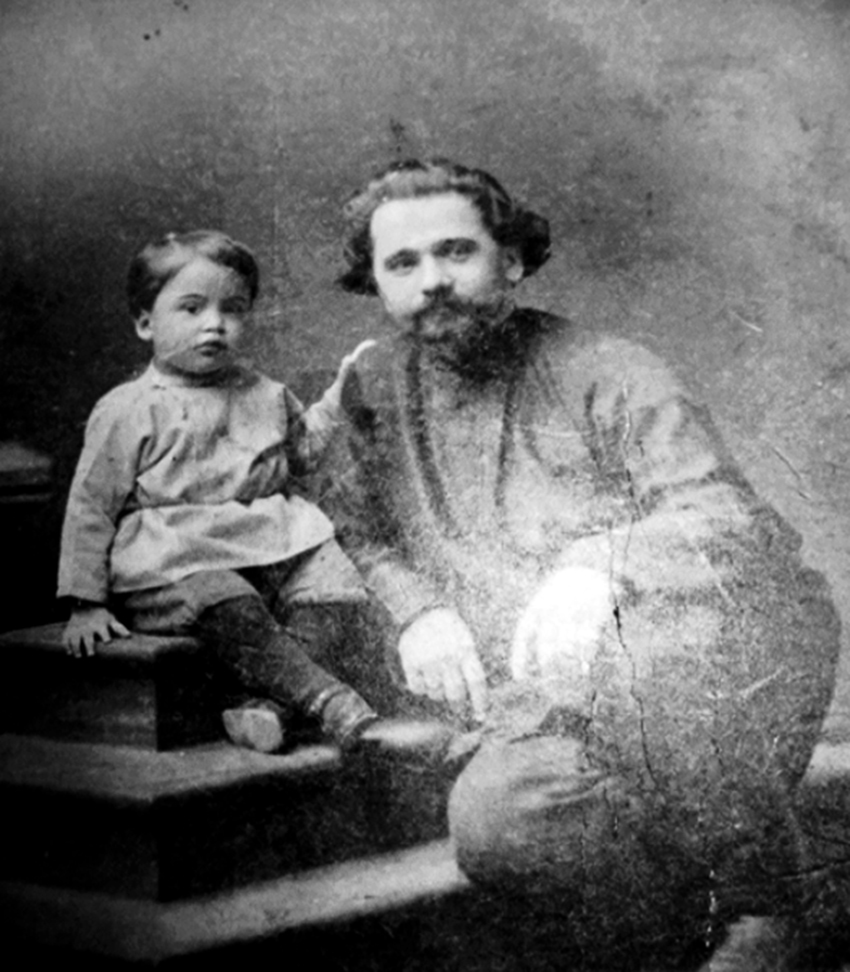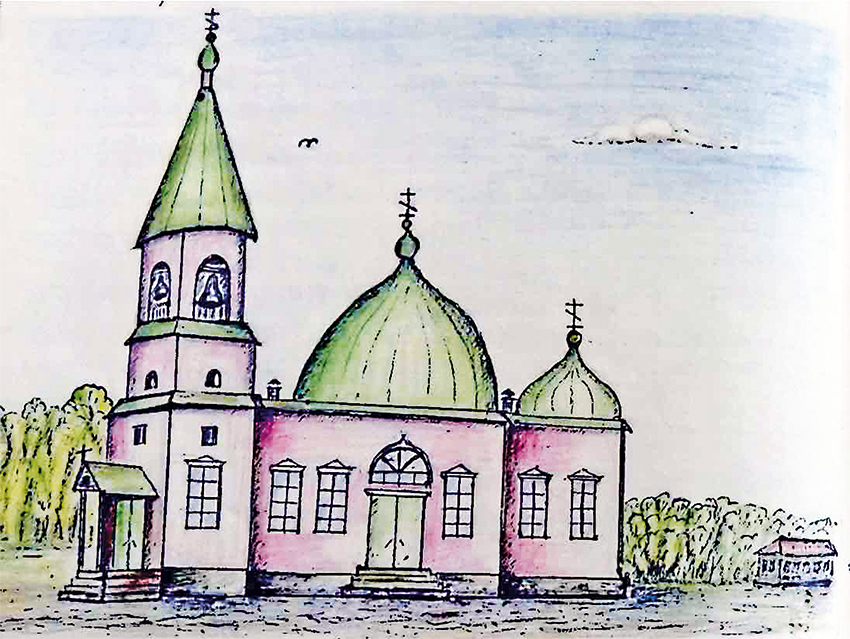Григорий Иванович Данилов родился в 1919 году в Карасёво и прожил в родном селе до 12 лет,
но сумел очень подробно и интересно рассказать о каждом его уголке.
Его воспоминания наполнены теплом и любовью к родному краю (небольшой отрывок его рукописи был опубликован в газете «Черепановские вести» 28 марта 2025 года).
Рукопись предоставлена жителем города Бердска Алексеем Николаевичем Осадчим – внуком Г. И. Данилова.
Ещё при Екатерине II на Алтае начали добывать медную руду. Для её плавки использовали специальные печи, которые топили обыкновенными дровами. Дров требовалось очень много. Встал вопрос: дрова ли возить к медным рудникам или руду доставлять в лес? Более выгодным посчитали второе. Так недалеко от Оби, среди глухого бора появился посёлок Сузун, где вот таким кустарным способом выплавлялась медь.
В этом же районе, но уже не в лесу, а среди обширной степи, стоит до сих пор не получивший большого развития городок Камень-на-Оби.
Во времена переселения россиян в Сибирь в этот город свозилось в большом количестве зерно с Кулундинской степи и мясо от забоя скота из окружающей местности.
Всё кулундинское зерно скупал в Камне-на-Оби самый богатый в этих местах купец Горохов и вывозил его на своих пяти пароходах к себе в Бердск. В Бердске у него были – чудо американской техники– две мельницы, которые перемалывали всё это зерно и уже мукой на этих же пароходах отправлялось дальше по Оби к Тоболу на Урал.
Пароходы купца Горохова попутно перехватывали и продукцию Сузунского медеплавильного завода – медные слитки и доставляли их по назначению. Так обстояло дело с доставкой грузов в тёплое время года. Но в Сибири холода наступали рано, и тогда пароходное сообщение прекращалось на всю долгую зиму. Конечно, и в Камень, и в Сузун старались завезти и вывезти оттуда как можно больше грузов пароходами. Но всё равно и зимой нужно было перевозить много разнообразных грузов уже гужевым транспортом по обычной зимней дороге. Главная дорога, связывавшая Камень и Сузун с жизненными центрами России, проходила через Карасёво. Более того, Карасёво находилось на середине этого пути. Тут происходили наиболее частые остановки обозов для отдыха, ремонта саней и сбруи, приобретения продуктов и корма для лошадей.
Именно последнее обстоятельство (может быть даже больше, чем плодородная земля) явилось причиной того, что первый переселенец в эти места старик Зубков после долгого путешествия из России остановил свой выбор на Карасёво. Зубковы жили в каком-то маленьком городке Тамбовской губернии. Жили богато, приторговывали и главное, имели много лошадей особой дорогой чистокровной породы. Но, видно, в России оказалось тесновато, потянуло в просторную вольную Сибирь. Первый ходок в Сибирь Зубков, будучи богаче и пробивнее своих земляков, без особых затруднений был приписан к обществу с правом получения земельного надела и строительства дома. И тем не менее он продолжал оставаться совершенно чужим человеком в обществе села, которое состояло исключительно из сибиряков и имело своих влиятельных людей. Это могло связывать ему руки в его деятельности на сибирской земле. Поэтому первые переселенцы, тамбовские и рязанские, во главе с Зубковым задались целью, чтобы как можно больше перетянуть из России своих земляков и создать в Карасёво административный перевес в обществе над сибиряками. Поехали на родину к своим родным и знакомым, раздавая агитационные письма с предложением переезжать в Сибирь. Зачастили сыновья Зубкова в Тамбовскую губернию. На обратном пути ехали в сопровождении больших групп переселенцев и привозили всё новые партии своих чистокровных лошадей.
Первым ходоком в Сибирь от моих предков поехал со своими односельчанами мой дед по отцу Прокопий. Покойный мой отец в своих записках вспоминает, как он вместе со своей матерью (моей бабушкой Евдокией), будучи 6-летним мальчиком, проводил отца до парома через реку Ворону. Зашёл отец на паром, помахал рукой, и больше его не видели. Это было ранней весной 1892 года, а 13 октября (под Покров день) пришло письмо, что отец (мой дед) умер в Сибири. Письмо шло два месяца. Ему в то время было лет 25-26 всего.
А ждали из Сибири совсем другого письма от моего деда – с просьбой, не мешкая, выезжать всей семьёй. Это единственное за всё время отъезда деда роковое письмо заставило семью отложить выезд.
Прокопий Ефимович по приезде в Карасёво сразу попал в кабалу к сибирякам. Чалдоны скупо платили за работу, и дед мой не жалел своих сил, старался побольше заработать хлеба к приезду семьи, которую он был намерен вызвать этим же летом. В Петровки он нанялся косить косой траву одному богатому сибиряку. Очень старался, скашивал по 0,5 десятины в день. В один из жарких дней, работая, очень вспотел, напился квасу и лёг на землю в тень. Приключилась страшная ангина. Болел недолго, спасти не могли. В далёкой чужой стороне похоронили его по христианскому обычаю свои односельчане-земляки. Говорили, он был первым среди переселенцев, кто «обновил» карасёвское кладбище.
А тем временем сюда прибывали всё новые и новые переселенцы. В одиночку и семьями. Они строили себе временные жилища, но по-прежнему их не приписывали к селу и не выделяли им землю. Сибирякам нравилось такое положение. Они богатели, на их обширных полях работали за бесценок целые бригады россиян.
Приезжие держались особняком, обсуждали свою горькую жизнь и решили послать свою делегацию в волость, в село Медведск с жалобой на карасёвских сибиряков. В Медведске, за 50 вёрст от Карасёво, находилась волость, которой в то время подчинялось всё наше село.
Волостной староста принял ходоков, выслушал их и заявил, что он не может им помочь. Чтобы иметь право на строительство жилого дома и получить земельный надел, надо быть приписанным к селу. А приписку может разрешить только само общество.
Поезжайте, мол, домой, просите собрать сходку, и как решит общество села, так тому и быть. Совсем разочаровались ходоки, не помогла волость. Они и без старосты знали, что всё уперлось в приписку. Но разве сибиряки примут добровольно их в общество, им это не выгодно! А вечерком Бог свёл их с писарем. А писарь волостной – это самый главный законник на всю волость, все бумаги, все циркуляры и директивы у него в шкафу и в голове. Получив от крестьян скромную мзду, он тайком научил их: «Вы вот что сделайте. В своих времянках сбейте из глины настоящие печи, пока без труб. А как у всех печи будут готовы, вы разом все, в одну ночь, выведите трубы через крышу наружу. Такие избы по царскому указу никто не имеет права насильно сносить. Будет считаться, что вы имеете в Карасёво своё постоянное жильё. А это даст вам право на получение земли».
Новосёлы так и сделали, как учил их писарь. Чалдоны опомнились, но было уже поздно, над времянками новосёлов клубились весёлые дымки. Но они всё-таки сделали наскок, желая развалить хибары новосёлов. Но им пригрозили царским законом. Был вызван из Медведска урядник, который хоть и держал сторону хлыстов, но временные жилища с печами уцелели. Это была первая победа россиян. А в России тем временем мои предки по отцу постепенно смирились с невозвратной потерей родного человека и вновь засобирались в Сибирь. Ждали возвращения ходока – односельчанина какого-то Романа Яковлевича, чтобы потом ехать вместе с его семьёй. И вот он приехал и рассказал про сибирскую жизнь, как туда ехать и что нужно брать с собой, а что нужно продать здесь, на месте.
Что же за семья была у моих предков, которая собралась ехать в Сибирь ровно 100 лет тому назад? Семья была очень сложная: дед моего отца Ефим, бабка Евдокия, два их сына женатых, незамужняя дочь Пелагея и невестка их Евдокия с сыном (моим отцом). В сложном положении оказались последние двое, у них уже не было ни мужа, ни отца. Первая держалась за свёкра, второй – за дедушку и за младшего дядю Николая Ефимовича, который благосклонно относился к родному мальчику-сироте.
Длинная и трудная дорога была впереди. Но сибирские просторы, по рассказам ходоков, как магнитом тянули к себе. Не хотели они и того, чтобы в далёкой Сибири оставалась беспризорной могила их сына, мужа и отца.
На Троицу приехали из соседних деревень родные, пришли односельчане, чтобы проводить и благословить их в дальний путь, на счастливое житьё в Сибирь.
Стронулись с места сразу несколько семей, целым обозом. Ехали не на свою железнодорожную станцию Ржаксу, а на другую, за 80 вёрст, чтобы не делать пересадку в Тамбове. Большой толпой обступили стоящий на путях паровоз, который видели впервые. И вдруг из паровоза с громким шипением вырвался пар. Толпа с испугом скатилась с насыпи, многие попадали. Эту весёлую картинку мой отец сохранил в памяти. Погрузились в товарные вагоны. Стали прощаться с родными. При расставании очень плакал дедушка моего отца по матери – Пётр. Он не хотел, чтобы его дочь Евдокия со своим малолетним сыном ехала в Сибирь, не имея мужа.
Поездом доехали до Саратова. Тут выгрузились, наняли подводы, переехали на пристань, где уже стоял пароход, который отец мой принял за дом, стоящий на воде. По Волге плыли до Казани. Тут у мальчика на всю жизнь остались богатые впечатления от всего увиденного – от большой реки, городов, мимо которых проплывали, живописных берегов. В Казани пересели на более маленький пароход и поплыли до Перми. В пути пароход часто останавливался на пристанях, и пассажиров заставляли грузить на него дрова. Капитан подбадривал: как только загрузим, сразу же поплывём. Из Перми поездом доехали до Тюмени. Здесь выгрузились и на подводах доехали до пристани на реке Туре. Здесь был переселенческий пункт. Переселенцев кормили горячими обедами и поместили их в какой-то большой сарай в ожидании парохода. Пришёл пароход, переселенцев погрузили в две баржи (в трюмы) и на буксире одна за другой потянул их пароход. Плыли на север, сначала по реке Туре, потом по Тоболу, затем по Иртышу до впадения его в Обь. И всё на север и на север. Но хорошо, что плыли по течению этих рек, и это помогало продвижению вперёд.
Доплыли до устья Иртыша. Тут был большой север. Ночей совсем не было, всё день да день. Обь показалась очень широкой, целым морем. В Иртыше вода была тёмная, в Оби светлая… Тут постояли на пристани. Вторую баржу подтянули к первой, даже можно было переходить с одной на другую, и малосильный пароходишко (отец сохранил название его) «Страдалец» медленно потянул баржи по Оби, против течения. Теперь путь по Оби пролегал на юго-восток и состоял по современным меркам и в пределах 2000 км до конечной пристани Бердск. Плыли долго. На берегах сёл не было, только встречались маленькие стойбища остяков с шалашами, сделанными из коры. Остяки смело и ловко подплывали к движущимся баржам на своих маленьких юрких лодках-обласках и предлагали купить у них рыбу. Русского языка они не понимали. Торговля шла не торопясь. Прицепив свою лодку к барже, остяк снимал со своей головы меховую заскорузлую шапку и, расслабившись, потихоньку раскуривал трубку, поглядывая на пассажиров. Потом он мундштуком своей трубки указывал на рыбу, сваленную на дно лодки, приглашая покупать. В деньгах остяки, видимо, разбирались плохо: каждому покупателю, сколько бы он ни отдавал денег, остяк передавал 1 небольшое ведёрко, до краёв наполненное рыбой. За одну монету – одно ведро рыбы, это когда монета не медная, а когда, случалось, подавалась ему монета светлая серебряная, – остяк более внимательно осматривал её, совал её куда-то в одежду, изготовленную из кож, и передавал два ведёрка рыбы. Было совершенно бесполезным делом требовать с остяка сдачу денег, в случаях, когда ему давали монету большего достоинства. Покупатель просил сдачу голосом, мимикой и яростно жестикулировал руками. Ему в этом помогали соседи, языком и руками изощрялись на всякие лады. Но остяк, похоже, не понимал их, он охотно кивал головой, как бы в знак согласия, а когда ему это надоедало, он закуривал трубку и ждал очередного покупателя. После наполнения ведра последней рыбой остяк внимательно осматривал пассажиров на палубе, находил самого старого человека и жестами просил передать ему рыбу, а когда пытались передать за эту рыбу деньги, он принять их решительно отказывался. Тут всем всё было понятно. Распродав свой товар, рыбак отцеплялся от баржи, и не беда, что он далеко отъехала от своего стойбища – обское течение быстро доставят его лодку до места. По всему низовью Оби, где проживали остяки, торговля рыбой проходила везде в таком же порядке.
Тут мне хочется сделать отступление и перенестись на 50 лет вперёд. В это время уже мне пришлось побывать в Нарымской тайге, в Колпашево, и тут встретиться с представителями этой национальности. Остяки – это малочисленная народность на севере Западной Сибири. Они умелые рыбаки и прекрасные отважные охотники.
Смелость, проявляемая ими на охоте, достойна уважительного восхищения. Когда я был там, у них вся тайга неофициально была строго поделена между охотниками. Чтобы охотники не заходили в чужие владения, поздней осенью остяк выслеживал места, где находились медведи, готовые залечь на зимнюю спячку.
На охоту ходили в одиночку. Брал с собой охотник только ружье, заряженное дробью, да небольшой кривой нож, отточенный, как бритва. Приёмы охоты на медведя были заранее отлажены и отрепетированы до мелочей. Встретив медведя, охотник смело шёл к нему навстречу. Приближался до известного расстояния и из ружья стрелял ему в голову, иногда делал два выстрела. Цель этих выстрелов дробью была одна: причинить боль зверю, разозлить его, чтобы он не ушёл. После выстрелов зверь издавал страшные рёв, становился на дыбы на задние ноги и шёл на обидчика. А в это время охотник бросал ружье, снимал с себя куртку, (она у них из какой-то кожи, мехом вверх) брал её в левую руку, а в правой – нож, и в свою очередь подвигался навстречу разъярённому медведю.
Когда сходились человек и зверь, человек подавал в лапы возвышающегося над ним зверя куртку, а сам оказывался под его брюхом. Медведь от злобы начинал зубами и костями разрывать её, и в этот миг жизни и смерти, когда «кто кого», в этот миг – не раньше и не позже– человек должен во имя сохранения своей жизни не испугаться, сильным заученным движением руки сверху вниз сделать в мохнатой брюшине медведя разрез – как можно длиннее и глубже. Только один разрез, для второго у него уже времени не было. Второй миг ему нужен только для того, чтобы успеть увернуться из-под брюха зверя, так как, почувствовав боль в животе, он сразу же опускается на все четыре лапы.
Охотник, если он уверен, что всё сделал как надо, не убегает от смертельно раненого зверя далеко, он отходит всего на 20-30 метров, садится на колоду, снимает шапку и закуривает трубку. Он безошибочно знает повадки медведя со сквозной раной на животе. Медведь лезет в рану лапой и вытаскивает оттуда свои внутренности, и так будет делать, пока не скончается. Всего две трубки успевает выкурить охотник, как можно уже снимать шкуру с убитого медведя. Убитого геройским, но, к сожалению, жестоким способом, который я встретил только в низовьях Оби.
Тут опять переходим к событиям столетней давности. Рыбу, купленную у остяков, варили тут же на баржах и ели её с ржаными сухарями, которыми в достатке запаслись дома, перед отъездом. Только позже, когда леса стали отступать, и на смену им появились светлые поля, а по берегам Оби вытянулись большие сёла, дед (отцов) Ефим вместе с другими пассажирами выходил на пристанях и покупал белого хлеба, и иногда – молока. В погожие дни пассажиры проводили время на палубах, занимались кто чем, с интересом смотрели на берега, где всё шире простирались поля и обширные луга, ради которых, собственно, переселенцы и покинули свои родные насиженные места.